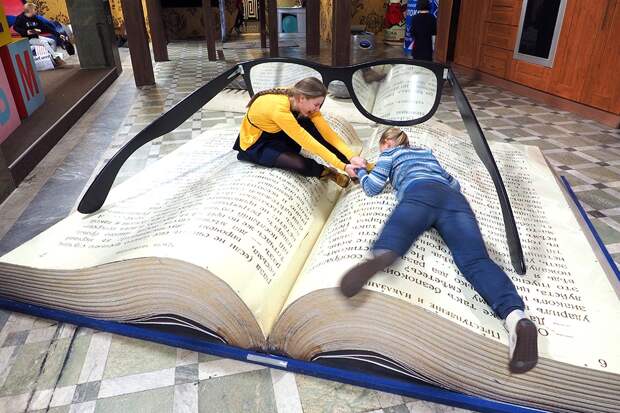
Предметная комиссия учителей Курганской области, проанализировав результаты ЕГЭ, предложила исключить из школьной программы слишком объемные произведения и заменить их на более доступные для детей тех же авторов. Педагоги поясняют: большие произведения в лучшем случае читают три-четыре человека из класса, то есть меньше 10 процентов.
"Разница в культуре, речи, обстановке, жизненных реалиях в литературе XIX века и современных людей, огромная, — подчеркивают учителя. — Изучая произведение со старшеклассниками, приходится много времени и сил уделять работе с лексикой, которая вышла из употребления. Читая «Евгения Онегина», многие дети не в состоянии «перевести» его на понятный им язык. Часов, выделяемых в школах на изучение литературы XIX века, явно недостаточно, и число изучаемых произведений, необходимых потом для сдачи на экзаменах, оказывается велико". Владислава Лобанова — одна из тех 10 процентов учеников, которая читает все, что задают. Она учится в 11-м классе в небольшом городе Щучье. По ее словам, «Евгения Онегина», «Преступление и наказание» читать было легко, а вот с «Войной и миром» оказалось сложнее. — Целых четыре тома и огромное количество сносок на французском языке! — призналась девушка. — Спасибо учителю Оксане Робертовне Беляевой. Мы подробно разбирали героев, их характеры, поступки, события. В итоге я прочитала весь роман от корки до корки. Правда, на это ушло три месяца, но произведение того стоит. А вот учитель литературы Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей, член Союза писателей России Александр Рухлов рассказал, что сам он в 15 лет не осилил «Войну и мир», прочитал только два с половиной тома. — Ученикам в этом честно признаюсь, — говорит Александр. — На уроках изучаю с ними избранные фрагменты, стараясь составить общее представление о самом важном: смыслах, значении, героях. По мнению учителя, дети сейчас читают, может быть, даже больше, чем в свое время читали их родители. Другой вопрос, что они читают? В основном это посты в соцсетях, блоги — то, что можно быстро пробежать глазами. Конечно, это проще. От больших произведений отказываться не стоит, считает он. Прикосновение к ним необходимо именно в юном возрасте. Это помогает подготовить почву для того, чтобы вернуться к этим текстам в будущем, разобраться и понять, открыть заново. Из 10 процентов ребят, которые все же читают, и вырастают в итоге те, о ком потом пишут в учебниках Молодой актер Курганского театра драмы Алексей Березовский уверен, что у каждого своя дорога к классике. Иногда нужно время, чтобы ее понять. На днях в театре состоялась премьера спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание». Алексей играет Раскольникова. Признался, что в школе он совсем не понял этот персонаж. Когда зашла речь о постановке спектакля, сел за роман. И понял, что… ничего не понял. Начал вдумчиво читать второй раз, третий… — Это очень христианское произведение. Там много отсылок к Богу, — говорит актер. — Чтобы во всем разобраться, пришлось открыть Библию, сходил даже в церковь, поговорил с батюшкой. Жаль, что в школе этому мало уделяется внимания. — Я категорически против исключения больших произведений из программы, — поделился мнением с «РГ» ректор Шадринского государственного педуниверситета Артур Дзиов. — Важнейшая задача школы — восстановление культуры чтения. В моей библиотеке десятки изданий русских классиков XIX-XX веков. В 60-80-е годы XX века они выходили тиражом 100 000 — 500 000 экземпляров, и у них находились читатели. Доктор философских наук Борис Шалютин, услышав об инициативе педагогов исключить из программы «толстые» книги, откровенно заметил: «Пусть почитают „Планету обезьян“ Пьера Буля, там описано подготовляемое ими будущее». Программа должна включать несколько крупных разнотипных романов, считает он, чтобы помочь школьнику осмыслить сам жанр и выработать вкус к нему. — Из 10 процентов ребят, которые все же читают, и вырастают в итоге те, о ком потом пишут в учебниках, — говорит Борис Шалютин. — И они более всех нуждаются в площадке для дискуссий, предоставляемой сложной литературой. У одного великого и очень непростого поэта есть строчки: Если путь прорубаяотцовским мечом, Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жарком бою испытал, что почем. Значит, нужные книгиты в детстве читал. Нужные книги простыми не бывают. Комментарий Ирина Добротина, заведующая Центром филологического общего образования ИСМО им. В. С. Леднева: — «У меня в голове опилки и длинные слова меня только расстраивают», — говорил Винни-Пух. Именно эту цитату вспоминаю, когда слышу предложения заменить длинные глубокие тексты в программе по литературе на произведения покороче. И действительно, чего это Лев Николаевич расписался аж на 4 тома с «Войной и миром»! Можно же было покороче! Но тогда вопрос: покороче — это как? Четыре тома — много, а сколько не много? Так, чтобы выпускник школы, которому скоро предстоит читать не только букварь, решать не только школьные задачки, не устал? Почему-то мы постоянно хотим наших детей от чего-то разгрузить, хотим не огорчить, не расстроить. Я говорю это как учитель-практик с почти 30-летним стажем. Представьте: «ребенок» выходит за порог школы — и сразу огорчается. В послешкольной жизни и конфликты возникают между «отцами» и «детьми», и семейная лодка может разбиться о быт, и в поисках счастья и смысла жизни пройдешь и испытаешь поболее некрасовских мужичков или Пьера Безухова. Но посчитаем. «Тарас Бульба» — около 250 страниц, «Капитанская дочка» — примерно 150 страниц, «Отцы и дети» — около 300 страниц. Что решают эти числа? Ничего. Отечественная литература — часть культурного кода русского народа, и никогда ее величие и роль в становлении личности не измерялось количеством страниц. А вот количество (и качество) прочитанных книг может о многом сказать. Выдающиеся произведения русской и советской классики должны изучаться на уроках литературы в полном объеме, где-то — в избранных главах. И если учитель предлагает посмотреть, например, спектакль Ярославского государственного театра юного зрителя им. В. С. Розова «Капитанская дочка» или художественный фильм по этому роману Пушкина, то это ни в коей мере не замещает чтение, а дает возможность увидеть, как замысел автора раскрывается с помощью других видов искусств. Ну а если сам учитель предлагает краткий пересказ — вопрос к учителю. Надеюсь, что это единичные случаи. Каждый выбирает для себя, как известно: что читать, сколько читать, зачем читать. Просто Винни-Пух никак не выходит из головы…
Свежие комментарии